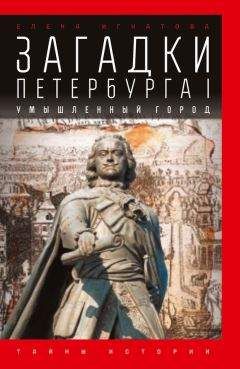Однако к террору можно относиться и без экзальтации, как к работе. Просто и буднично говорит эсер Борис Савинков о соратнике по партии: «…Азеф состоит членом партии с самого ее основания… Долговременная совместная террористическая работа сблизила нас. Я знал Азефа за человека большой воли, сильного практического ума и крупного организаторского таланта. Я видел его на работе. Я видел его неуклонную последовательность в революционном действии, его спокойное мужество террориста, наконец, его глубокую нежность к семье… Это мнение в общих чертах разделялось всеми товарищами, работавшими с ним».
Об Азефе речь впереди. Обратите внимание на стиль Савинкова: так же косноязычно, с теми же оборотами, заговорят в советское время на собраниях и съездах. Террор будут называть работой и не преминут упомянуть о добродетелях палачей. Задолго до победы большевиков сложилась и другая примечательная стилистика — та, что будет в ходу на партийных чистках и на политических процессах. В 1912 году Троцкий пишет в статье «Николай II»: «Вконец обделенный природой, вырожденец по всем признакам, со слабым, точно коптящая лампа, умом… Николай был воспитан в атмосфере казарменно-конюшенной мудрости и семейно-крепостнического благочестия своего родителя, крутого и тупого Александра III… Романов озлобляется — и то подлое и порочное, что лежит в основе его натуры, все бесстыдное выступает наружу. Тупая апатия все чаще сменяется в нем припадками эпилептической злобы. Он быстро привыкает к веревке, свинцу, кандалам, крови — и чтение о погромах, заточениях, расстрелах доставляет ему сладострастное удовлетворение». Читая речи Савинкова, статьи Троцкого, вспоминаешь слова булгаковского героя: «Когда вы говорите, мне кажется, что вы бредите». Это бредовое сознание и демагогия в радикальных кругах были в ходу задолго до 1917 года.
На снимках 1905 года — толпы петербуржцев, внимающих ораторам. Много молодых, оживленных лиц. Во что они так напряженно вслушиваются? В революционные речи, в нарастающий рев грядущего. «Петербург окружает кольцо многотрубных заводов… Все заводы тогда волновались ужасно, и рабочие представители толп превратились все до единого в многоречивых субъектов; среди них циркулировал браунинг; и еще кое-что. Там обычные рои в эти дни возрастали чрезмерно и сливались друг с другом в многоголовую, многоголосую, огромную черноту; и фабричный инспектор хватался тогда за телефонную трубку: как, бывало, за трубку он схватится, так и знай: каменный град полетит из толпы в оконные стекла» (Андрей Белый. «Петербург»).
В конце 1904 года на Путиловском заводе уволили четырех рабочих. Товарищи потребовали принять их обратно, а мастера Тетявкина, виновника увольнения, убрать с завода. Дирекция не согласилась — и 3 января 1905 года Путиловский завод забастовал. Вероятно, мастер Тетявкин был неправ. Первая русская революция, в историю которой таким образом вошло его имя, не имела времени разбираться в столь незначительном происшествии. Однако оно стало поводом, вызвавшим самые серьезные последствия. Бастующие путиловцы потребовали сократить рабочий день до восьми часов, увеличить жалованье, вдвое повысить расценки оплаты сверхурочных работ и т. п. К Путиловскому заводу присоединились другие, и в начале января в Петербурге бастовало 456 заводов и фабрик, около 113 тысяч человек.
9 января депутация рабочих, сопровождаемая многолюдным шествием, направилась к Зимнему дворцу — подать императору петицию со своими требованиями. Последующее известно: императора в столице не было, рабочих встретили войска петербургского гарнизона. Они открыли огонь, 130 человек было убито.
Организовал депутацию священник Георгий Гапон, руководитель «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга». «Собрание», созданное Гапоном, было легальным рабочим союзом, достаточно влиятельным и многочисленным к 1905 году. Ни он, ни другие авторы петиции не предполагали возможности расправы над мирным шествием, безоружными людьми. На Дворцовой площади Гапон был ранен. Инженер Путиловского завода, эсер П. М. Рутенберг помог ему скрыться и бежать за границу. В Петербург Гапон вернулся после объявления политической амнистии в октябре 1905 года. А в марте 1906 года Рутенберг с сообщниками повесили его в пустующей даче в Озерках. Гапона убили за то, что, находясь за границей, он согласился сотрудничать с Охранным отделением (политической полицией). Об этом он рассказал Рутенбергу, тот уведомил ЦК эсеров и получил задание «ликвидировать» Гапона. Примечательно то, что убийство совершилось с согласия главы Боевой организации эсеров Азефа — как выяснилось позже, давнего провокатора и агента охранки.
На этом история не завершилась: вскоре провокатором объявили самого Рутенберга. И он, столь отличившийся во время революционных событий 1905 года[18] (нелегально доставлял оружие в Петербург, был командиром боевой дружины), вынужден был бежать.
Трагедия 9 января стала началом революции в России. Императорский манифест 17 октября 1905 года, провозгласивший свободу слова, собраний, узаконивший многие права и свободы, уже ничего не мог изменить. «В мастерских, типографиях, парикмахерских, молочных, трактирчиках все вертелся какой-то многоречивый субъект; нахлобучив на лоб косматую черную шапку, завезенную, видно, с полей обагренной кровью Манджурии; и засунув откуда-то взявшийся браунинг в боковой свой карман, многоречивый субъект многократно совал первому встречному в руку плохо набранный листик… Учащались ссоры на улицах: с дворниками, сторожами; учащались ссоры на улицах с захудалым квартальным; дворника, полицейского и особенно квартального надзирателя задирал пренахально: рабочий, приготовишка, мещанин… даже лавочник…
Слышал ли и ты октябрёвскую эту песню тысяча девятьсот пятого года? Этой песни ранее не было…» — писал Андрей Белый в романе «Петербург».
И слова у этой песни новые. На собрании петербургского Совета рабочих депутатов в октябре 1905 года уже не было речи о петициях к власти: «Депутат Металлического завода объявил, что все они… в числе двух тысяч человек вооружились… при этом он поднял вверх отточенный с одной стороны нож с деревянной рукояткой. Депутат с Путиловского завода… вынул самодельный клинок и заявил, что у них вооружаются все 12 тысяч рабочих… Депутат от завода Лесснера… показал металлическую плетку со свинцовым наконечником…»
На кого же они собрались с плетками, ножами, кастетами? А на черносотенцев и контрреволюционеров! Так, значит, революция? В петербургской губернии крестьяне вырубают казенные леса, грабят хлебозапасные магазины, жгут усадьбы… По всем приметам — революция.
«Петербургские улицы обладают несомненнейшим свойством: превращают в тени прохожих; тени же петербургские улицы превращают в людей», — писал Андрей Белый. Действительно, из несомненной реальности событий: с толпами на улицах, ревом «Долой самодержавие!», пальбой, казачьими разъездами — из реальности этой вдруг проваливаешься в ирреальность, в то, что Андрей Белый называл «мозговой игрой». В тени, отбрасываемой словом «р е в о л ю ц и я», явственно читается: «п р о в о к а ц и я».
Давно нет на свете жандармского подполковника Судейкина, а его сообщника и убийцы Дегаева давно нет в России, но «тени петербургские улицы превращают в людей»; их замыслы и дела не забывались. После политической амнистии 1905 года в Петербурге стали появляться (из-за границы или с каторги) люди, которые долгое время тоже казались почти тенями: немногие оставшиеся в живых народовольцы, эмигранты, годами жившие вне России. Среди других в Петербург вернулся из эмиграции В. Л. Бурцев, издатель журнала истории революционного движения — «Былое». Он одержим опасной в глазах всех партий идеей: выискивает среди революционеров провокаторов и агентов охранки. В этой области у Бурцева несомненный дар, и вожди победившей революции незамедлительно воздадут ему по заслугам: «При большевиках я был арестован в Петербурге в первый день их переворота, 25 октября 1917 года, и оставался у них в тюрьме до мая 1918 года», — вспоминал Бурцев. Тогда он чудом спасся и бежал из советской России.
А в 1906–1907 годах в петербургскую редакцию «Былого» захаживали самые разные люди: «В 1906–1907 годах… я поддерживал связи и с… лицами из мира охранки, которые тоже давали мне сведения. Для одних редакция „Былого“ являлась приманкой, когда они рассчитывали что-нибудь заработать за сообщение материалов, для других это было местом, где они могли бы из соображений нематериальных поделиться своими сведениями» (В. Л. Бурцев. «В погоне за провокаторами»).
Среди тех, кто захаживал к Бурцеву из соображений нематериальных, был даже прежний директор Департамента полиции С. А. Лопухин. Казалось, революция побеждала, и служащие этого ведомства тоже воспылали желанием разоблачать проклятое прошлое, а кое-кто заодно и поживиться.